
Икона как образец духовного творчества
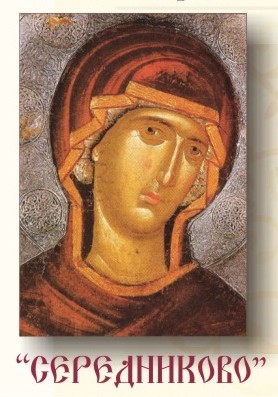 |
Одна из основных особенностей иконного изображения, на которую в первую очередь обращают внимание все исследователи, - обратная перспектива. Она создается расходящимися линиями, позволяющими видеть предметы в развертке: так, например, у изображаемого фасада здания показываются обе боковые стены; у Евангелия могут быть видны сразу четыре обреза, лицо на иконе изображается с теменем, висками и ушами, которые, будучи как бы распластаны на плоскости, обращены к зрителю. Обзору наблюдателя, таким образом, открываются дополнительные плоскости, которые в "нормальном" изображении остаются скрытыми, так как линии параллельные и не лежащие в плоскости изображеня даются сходящимися к линии горизонта. На иконе эти линии даются расходящимися. При этом иконописные "дефекты" усиливаются от подчеркнутости обсуждаемых дополнительных плоскостей или ракурсов. Эти плоскости (раскрышки) часто окрашиваются в яркие тона, выдвигаются вперед и стремятся стать центром иконы. Так, специфическая перспектива иконы подчеркивается еще и цветом.
Классическая европейская живопись строится на разнице интенсивности цветов, определяющих передний и задний планы: яркие предметы воспринимаются как стоящие ближе, более приглушенные - как стоящие дальше. Детали заднего плана "приглушены" расстоянием, задний план с необходимостью дается в сдержанных тонах. Что же касается иконы, то ее цветовая перспектива перевернута: фон (свет) показан как возможно более яркий, одежды же людей, находящихся "близко", темны и неброски. В этом случае передний план иконы оказывается как бы распластанным под воздействием божественного света: божественная энергия выгибает края иконного изображения. Предмет на иконе разворачивается, показываясь по крайне мере с трех сторон, выявляя с наибольшей полнотой свою объемную форму и пространственные соотношения. Строго говоря, обратная перспектива - метод развертывания пространства изнутри наружу. Предметы, изображенные таким образом, предоставляют зрителю возможность как бы осязать предмет глазами ("кожность зримого" у Флоренского), почувствовать самодовлеющую жизнь изображенного, независимую от "точки зрения" воспринимающего, ощутить объем предметов, одновременно предоставить их изнанку, оставляя при этом общую композицию плоскостной, не нарушая ее прорывами в "глубину", которая неизбежна в "прямой" перспективе.
Таким образом, пространство иконы экс-коммуникативно: человек, живущий в мире иконы, изначально находится внутри изображаемого мира. Для иконной логики взгляд со стороны на живописное событие запрещен. Когда мы смотрим на иокны, мы как бы встречаемся со взглядом нашего визави, но не мы, а он созерцает и создает изображение. Это изображение, или тот наблюдатель-творец, находящийся внутри изображаемого мира, предельно активно: иконописное произведение всегда строилось, а не повторало действительность. Это иконное воссоздание мира можно сравнить с техникой архаических изображений, где идея изображения или его принцип вносятся за счет движения руки, через движение как действие [1]. Иными словами, художник рисует не так, как он видит, а как знает его тело. Примером тому может послужить один из традиционных сюжетов дзенской живописи - бамбук. "Когда живописец пишет ствол бамбука, он опускает кисть на бумагу и ведет ее вверх на несколько дюймов, затем он останавливается... и начинает новую линию, чуть выше предыдущей... Маленькое пространство между линиями изображает узлы бамбука. Этот процесс нанесения мазков с остановками и повторными мазками, направленными вверх, продолжается до тех пор, пока бамбук не будет выписан во всю длину , [2]. Каждая операция написания звена бамбука выполняется на одном выдохе. В момент, когда кисть отрывается от бумаги, останавливается и дыхание художника. Чтобы научиться писать бамбук, художник должен прежде овладеть специальными приемами дыхания, или "бамбуковым методом" выдоха. Только такой способа дыхания, дающий возможность максимальной концентрации, делает возможным "традиционное" изображение. Если кисть на бумаге задержится чуть дольше, то используемая для рисунка тонкая бумага порвется, если чуть меньше - бумага не сможет впитать нужное количество туши. Такая картина, не допускающая исправления, воспроизводит помимо сюжета духовную силу художника, дублируя ее диаграммой его телесного опыта.
Иконописей также передает в изображении свой телесный опыт, который в нашем случае является опытом православной жизни. "Мастер иконописец измышлял композицию, пространственные отношения которой определялись его мироощущением" [3]. Это христианское мироощущение есть мироощущение активное ("ходите, пока свет еще с вами"), поэтому его пространственная проекция была динамичной. Проекция пространства в иконописи есть разворачивание его по направлению к зрителю, что символизировало его (пространства) активную внеположенность. Значит, с одной стороны, иконописное пространство изображало мир, невидимый в своей трансценденции, а с другой - предоставляло свою "активную субстанцию", воздействующую на воспринимающего. Зритель здесь не управляет пространственными соотношениями. Пространство иконы есть пространство сакральное, трансцендентное этому миру. Находиться в этом пространстве - значит находиться внутри сферы. Шарообразность, сфероидность иконного изображения есть обязательное условие для обозначения означаемого пространства как трансцендентного. Николай Тарабуркин в главе "Эксцентрическое пространство" пишет, что впервые в пределы "иной обители" допустили зрителя итальянские мастера XV века. "Небо низвелось до земли", и "заповедные" пространства потеряли "инобытийную" неприступность: "Благодаря перспективной проекции своих картин художники кватроченто приглашали зрителя в те же здания, те же поля, где в условиях совсем "правдоподобного" пространства находилась Богоматерь и святые" [4]. Таким образом, композиция в иконе строилась так, что зритель по определению находился вне картинной плоскости. В этом смысле позиция зрителя, воспринимающего картину, тем, что первое, будучи трансцендентно и активно, развертывалось изнутри наружу, т.е. было экс-центрично и, развертываясь по собственной логике, не было подчинено воспринимаюему; пространство же перспективной картины имманентно созерцателю, подчинено его сознанию и воле, будучи свертываемым в глубину. Итак, иконописец, создавая образ пространства, исходит исключительно из его инобытийной основы. Раскрытое перед наблюдателем пространство есть бытие трансцендентное, проникнуть в которое зрителю не дано: все формы предметов, будучи обращены наружу, являют собой преграду всякой попытке со стороны зрителя проникнуть внутрь иконы. Это пространство "идет на нас", в этом пространстве жить могут лишь изображенные в нем. Находясь вне условий, присущих реальному миру, изображенные на иконе лица сообщаются друг с другом на таком расстоянии и существуют в таких взаимоотношениях, которых нет в реальном мире. Этим объясняются все те пространственные сдвиги, необычные смещения, изгибы и сокращения, столь характерные для иконы. То, что мы видим, находясь вовне (складки, изломы), наш визави на иконе видит, как уже говорилось, изнутри. Но видеть изнутри - значит находиться внутри сферы; то, что для наблюдателя (икона смотрит на нас) будет дальним и внешним, то для нас будет самым близким, выпуклым, вываливающимся на нас. Значит, первый план в иконе всегда выпукл, второй - всегда вогнут. Переход от первого плана ко второму со стороны внешнего наблюдателя "происходит не постепенно, а в резких зрительных сдвигах, обычно маскируемых в виде геологических сдвигов - "оползней""[5]. Место, где происходит трансформация второго плана в первый, и предстает для внешнего наблюдателя в качестве излома, сгиба, разрыва.
Эти пространственные складки служат для нас указанием границы, разделяющей тот мир и этот. Запредельная нам действительность сообщает о себе нарушением геометрии классического изображения, задаваемого Новым временем. Перспектива Нового времени есть определенное поведение смотрящего субъекта, который изначально присваивает себе процедуру зрения: "Я обладаю своим зрением, я вижу вещи и они появляются из моего зрения. Аналогична позиция философской классики: в мире нет ничего, что Бог бы нам уже не дал; в силу того, что на нас упал отблеск божественного света, мы видим то же, что и Бог; взгляды наши различаются не в принципе, а по степени; чем в большей степени мы становимся геометрами, тем лучше мы видим". Глядя на икону, у нас не существует иного способа попасть внутрь сферы, как восстановить изображение. И если нам удастся сделать это, мы понимаем, что центр зрения находится не в нас, а в иконе. Если мы смотрим на мир из иконы, то все вещи находятся как бы в световом столбе. Глаз Бога или чистый свет всегда находится позади вещей, значит, Бог находится по одну сторону зрения, а мы - по другую. И когда фон оживает, начинается истечение света. На этой волне вещи начинают уплощаться, максимально раскрываться перед нами. Сфероидная структура иконы обращается к адепту, одновременно (по выражению А. Иванова) "выталкивая неверующего из храма". Тогда некоторый реалистический пафос иконы заключается в том, что она показывает действите реальности, которая видит нас и (тем самым!) показывает нам вещь.
Совершенно иной опыт постижения действительности демонстрирует религиозная живопись Востока. Китайская и Японская изобразительные традиции также строятся на отсутствии единой точки зрения, но в отличие от православной изобразительной традиции пространство трактуется здесь исходя из среднего плана картины. Художник сам помещает себя (и зрителя) в центр изображения. Тогда даль и близь акцентируются так: "...даль развертывалась interieur'но, близь - exerieur'но" [6]. Пространство здесь не подчинялось зрителю. Для того чтобы "увидеть" пейзаж, зритель поглощался и растворялся в пространственной шири картины; он был втянут в пространственные недра картины в силу самой композиции, тогда как икона не допускала в свои пространства зрителя. Если классическая европейская перспектива есть перспектива сходящихся линий, то восточная религиозная живопись строит пространство по радиусам. При этом любопытен тот факт, что две из трех разновидностей японской картины (макемоно и какемоно) никогда не имеют рамы, без которой европейская картина никогда не будет закончена. Какемоно есть взгляд изнутри самой природы, сливающейся с ней, окруженный изображаемой действительностью со всех сторон. Европеец смотрит на природу через окно картинной рамы, китайский живописец находится посреди самой природы. "Те, кто серьезно толкует о живописи, говорят так: есть горы и воды, через которые можно пройти; есть такие, где можно поселиться. Такую картину можно назвать воистину чудесной" [7]. Японские и китайские пейзажи говорят о растворении художника в природе; окружающий мир имманентен их просветленной сущности. Восточный художник - панеист, сливающийся с природой. Отсюда радиальное построение пространства. При этом не втягивает в свою глубину, а вободно развертывается на плоскости. Взгляд не всасывается в глубину, а свободно расплескивается по сторонам (высокий горизонт). Отсутствие единой точки зрения придает пространству восточных художников центробежный характер. Убегая, оно возвращается на место и снова начинает удаляться в ритме дыхания художника, рука которого движется в унисон с ритмами вселенной. Это пространство волнуется. Природа, наблюдаемая прочувствованная) таким образом, приобреатет изумительную жизненность, убедительность и очарование.
Христианское переживание трансцендентности Бога, освящающего и наполняющего своим светом весь мир, в корне отлично от восточных религиозных традиций. Так, даосский мудрец живет совсем иным чувствованием и пониманием мира, нежели православный подвижник.
Всякая пространственно существующая ведь понимается нами через ее соотнесение с нашей телесной схемой или через перенесение нас в саму вещь - так, что, ощущая и мысля ее части, мы осваиваем через себя ее органы и функции. Тогда через особое, специфическое положение вещи в пространстве выражается ее особое отношение ко всему миру и, следовательно, "предрешается особый подход понимания этой вещи" [8]. Положение эе или повороты вещей сводятся тогда к поворотам человеческого тела. Основной поворот, характеризующий способ восприятия мира или воздействия на него, запечатленный на иконе, есть прямой поворот, открывающий созерцателю лицо. "В качестве "я" лицо дается прямым поворотом. Будучи полнотой и все собой обнимая, оно и есть двигатель всего, сам неподвижный. Это - самодовлеющая полнота, а потому ясность, невозмутимость и блаженство. Не оно в пространстве, а пространство в нем. Это есть лицо по преимущество - субстанция. В порядке душевных деятельностей и способностей это есть разум" [9]. Предмет изображения иконы - абсолютное лицо, это лицо того, кто единственный может сказать о себе - "это Я". Значит, фасовое изображение в антропоцентристской христианской литературе присуще одному Богу. Бог - единственный, обладающий истинным лицом, точнее ликом. Итак, если всякий фасовый портрет относится к разряду икон, то художник должен передать в изображении божественную норму лица ("онтологическую нормальность" - А. Кураев), т.е. лик.
Как лицо приводится к лику? Онтологический статус лика выступает при сопоставлении лица и маски. Что такое лицо? Лицо есть то, ч то уже существовало до нашего взгляда, как будет существовать и после него. Лицо постоянно движется, у него отсутствует начало, явление лица серийно. Тогда лицо не единично, оно множественно и никогда не совпадает с собой. "Лицо не лишено реальности и объективности, но граница субъекивного и объективного в лице не дана нашему сознанию отчетливо, и, вследствие этой ее размытости, мы, будучи вполне уверены в реальности воспринимаемого нами, не знаем, или во всяком случае не знаем ясно, что именно в воспринимаемом реально" [10]. Взгляд фотообъектива (мертвый взгляд - неподвижный зрачок) запечатлевает уже мертвое, то, что было. Фотография стирает мир, обращая лицо в маску, в образ самого себя. Лицо как трансгрессивный знак внутренней жизни не существует в архаических сообществах: художницы племени кадувео "не знают" человеческого лица. Контур лица на листе бумаги изображается в виде двух примыкающих друг к другу профилей: "Ясно, что художница задалась целью передать не лицо, а рисунок на лице... В туземном мышлении... сама роспись представляет ... лицо или, скорее, его воссоздание" [11]. Значит, в европейском понимании лицо "живет" перед нами, пока вовлечено в физиогномический поток мельчайших изменений, и этот поток протекает вне времени и пространства, но во времени нашего переживания лицевых событий. И вот в этот вневременной момент нашего переживания лицо "самовысвечивается, выбеливаясь до пятна" [12], и тогда мы признаем в нем явление лика. Лик как фасовое изображении лица в иконе всегда "стоит, непременно стоит" [13], движение по направлению к зрителю создается фоном или "светом", который физиологически располагается вне иконы. Эта лучащаяся энергия фона осознается как свет (или "слава") самого лица, которое теперь есть лик.
Однако всякое лицо предполагает определенную дистанцию или допустимую меру близости, нарушение которой ведет к стиранию лица: "когда фон поднимается на поверхность, человеческое лицо распадается в том зеркале, где неопределенное, точно также как и определенное, смешивается в единой детерминации, "создающей" различие. Чтобы создать монстра... лучше всего поднять фон и растворить форму" [14]. Иконное изображение изначально устанавливает предельную дистанцию, знаменуя тем самым радикальный поворот к человеческому [15], утверждая его онтологическую ценность как носителя образа Бога и автономность его как личности. Если иконное изображение "оживает" в соответствии с перечисленными принципами, то оно образует внутри себя диалогическое пространство. Диалогическое пространство есть пространство, предназначенное для говорения. Можно ли ввести речь в визуальный порядок в качестве не мнимого, а реального эквивалента видимого? "Но видим ли мы того, кто говорит, видим ли, когда пытаемся слышать? Лицо, которое мы видим, и лицо, которое говорит, призывая нас слушать, - не одно и то же лицо. Действительно, когда яслушаю кого-либо, то я вижу, как "говорит" лицо, вижу, независимо от того, что говорится; я весь поглощен тем, как нечто рассказывается, меня не интересует, что рассказывается. Я не слушаю того, что говорится, я вижу только лицо, которое вибрирует. Глаза манят, артикуляция столь выразительна, что нарушает естественную геометрию лица, центром которой становится открытый рот. Движение моего взгляда теперь захватывается путами невидимых слов, возникающих и тут же исчезающих, пока через полуоткрытый рот движется артикуляционный поток" [16]. Значит, как только мы начинаем "слушать" икону, мы больше не видим; актом слушания мы останавливаем поток бьющего на нас света. Слышимый поток рассказа изменяет наше отношение к прежнему статусу персонажа иконы, лик перестает быть единственным источником значения. То, что было теофанией - явление Бога, становится словоявленностью. Свет претворяется в слово: "Уже не потому веруем, что вы свидетельствуете написанными вами иконами святость святых, а сами слышим исходящее от них через произведение вашей кисти самосвидетельство святых, а не словами, а ликами своими мы сами слышим сладчайший глас Слова Божия, Верховного Свидетеля, глас, проникающий своим сверхчувственным звуком все существо святых и приводящий его в совершенную гармонию" [17].
Итак, иконописный свет трансцендируется в богоСЛОВИЕ, которое известно не "сознанию", а телу художника: "Иконописей выражет христианскую онтологию, не припоминая ее учение, а философствуя своей кистью. Не случайно высоких мастеров иконописи древние свидетельства называют ФИЛОСОФАМИ, хотя в смысле отвлеченной теории они не написали ни одного слова. (...) Иконописцы свидетельствовали воплощенное Слово пальцами своих рук и воистину философствовали красками. Только так может быть понимаемо бесчисленно повторяемое отеческое утверждение (...) о равносильности иконы и проповеди: иконопись для глаза есть то же, что слово для слуха. Итак, не потому, что икона условно передает содержание некоторой речи, но потому и речь, и икона непосредственным предметом своим, от которого они неотделимы и в объявлении которого вся их суть, имеют одну и ту же духовную реальность" [18] .
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Первобытный знак "значим сам по себе... он не является знаком знака... не будучи ни идеограммой, ни пиктограммой, он - ритм, а не форма, зигзаг, а не линия, артефакт, а не идея, производство, а не выражение... Графизм есть представление тела" (Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. М., 1990. с.62).
2. Секида К. Практика Дзен. М., 1993. с.518.
3. Тарабукин К. Проблема пространства и жипописи // Вопросы искусствознания. 1993. №2-3. с 249.
5. Жегин А. Язык живописного произведения М., 19700. С. 63.
6. Тарабукин К. Указ. соч. С. 260.
7. Го Си. Возвышенными смысл лесов и потоков // Антология даосской философии. М., 1994. С. 377.
8. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1992. С. 142.
10. Флоренский П. Иконостас. М., 1993. С. 26.
11. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1984. С. 232.
12. См.: Подорога В. Лицо других // Ежегодник-93. М., 1994. С. 136.
13. Флоренский П. Иконостас. С.145.
14. Deleuze G. Difference et Repetition. 1985. Р.44.
15. См.: Никонов К. Современная христианская антропология. М., 1983. С. 27.
16. Подорога В. Указ. соч. С.144.